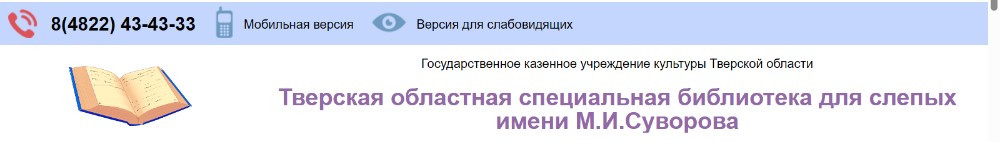Новый сайт
Уважаемые читатели! С января 2026 года официальный сайт
Тверской областной специальной библиотеки для слепых имени М.И. Суворова – https://tosbs.tver.muzkult.ru/
Л. Сланевский "Сердце полнится песней"
Тверское областное отделение педагогического общества РСФСР
Тверь, 1990
Л.В. Сланевский, кандидат филологических наук, доцент Тверского государственного университета.
Сердце полнится песней
В помощь учителю литературы
Не так уж часто в нашей сегодняшней быстротекущей жизни можно увидеть в часы досуга человека за книгой. И это в самой читающей державе мира, каковой еще совсем недавно мы любили себя представлять! Что ж, возможностей представляется все больше — есть из чего выбирать— мало ли дел для души?!.
Душа! У нас что-то выпускают «на душу населения», мы стараемся жить «душа в душу», можем «отвести душу», «поговорить по душам». Ну, иногда вспомним, что «душа обязана трудиться...» И все-таки в суматохе и круговерти жизни не всегда замечаем, что души начинают мелеть, что к нам подкрадывается опаснейший из дефицитов — дефицит духовности, добра, человечности. От него не спасут талоны, его не заменят зрелища, дачные участки, хобби. Душе нужна пища духовная — умная, честная, добрая и впечатляющая Книга.
...Я слышу зябкий перелив I
Ромашек росных под рукою,
Я слышу праздничный мотив
Гвоздик, обрызганных зарею...
Звучит во мне сквозной простор,
Рассветом медленным омытый,
То ля минор, то ля мажор
Земля возносит, как молитвы
Я не могу, себя измучив
В картину красками плеснуть,
Чтоб розовели утром тучи,
Еще лиловые чуть-чуть.
Но, может, только я и знаю,
Как мир прекрасен!
Люди! Люди!
Когда прекрасное теряешь,
Тогда лишь только постигаешь,
Какое потерял ты чудо!.. Читатель мой,
к судьбе не ластясь,
Не вымогая ничего,
Я говорю,
что знаю счастье
В самом сраженье за него.
Прочитали... А обратили внимание, что в этом отрывке из монолога счастливого человека совсем нет, даже случайно не проскользнуло слово «вижу»? Но случайно ли?.. Мы-то видим, отчетливо представляем себе все нарисованное в этих строках! И не в этом ли истинное волшебство, «чудо» поэзии?!..
А приобщаясь к постигнутому миру, образам, сопереживая с героями, мы незаметно работаем и над собой. В нас происходят перемены, и подтолкнул к ним, подготовил их Поэт.
В свое время, на пороге 60-х годов, Борис Полевой заметил и благословил на поэтическую стезю недавнего выпускника Калининского пединститута, выделив его отечески-зорким глазом из плеяды своих молодых земляков: «Нельзя не упомянуть... поэта Михаила Суворова, в творчестве которого мягкая, задушевная лирика сочетается с боевой патриотической направленностью». Позже преемник Б. Н. Полевого по журналу «Юность» и тоже наш земляк, поэт Андрей Дементьев скажет: «В лучших стихах Суворова, посвященных природе Верхневолжья, чувствуется не только поэтическое осмысление вечности и бытия, но и бесконечная влюбленность в мир, в его красоту и романтику» (А. Дементьев. Восхождение к признанию. — Калининская правда, 30 января 1980 г.).
Итак, поэт... Что ж, такова наша человеческая натура, что мы, в большинстве своем, не можем не фантазировать — понятия у нас ассоциируются, закрепляются... Так у меня с понятием «поэт» еще с далеких школьных лет накрепко спаялись строки пушкинского «Пророка»: ,
Восстань, пророк, —
И виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!
Как же не похож на этот классический стереотип наш земляк Михаил Иванович Суворов! Маленький ростом, щупленький, сухонький, подстать однофамильцу-полководцу, да к тому же еще слепой — где уж тут моря и земли обходить?! Ну, и возраст (юбилейный, как недавно было принято именовать) — прежние удалые рыжеватые кудри, увы, больше не венчают его буйную головушку. И все же, все же, все же... Вы слышали по радио (и не только по тверскому областному), как пафосно и взволнованно читает он свои стихи? Вам встречались на страницах газет и журналов его произведения — всегда молодые, острые, заставляющие задуматься о многом? Вам доводилось стать обладателем новой суворовской книжки, стопка которой прямо у вас на глазах заметно убывала на прилавке книжного магазина? У вас было ощущение — по окончании поэтического вечера М. И. Суворова, — что мир вокруг стал шире, интереснее, что в нем появилось больше возможностей для применения ваших сил, энергии, способностей?!
Наконец, вам не приходилось бывать на его уроке в школе, на встрече с ним у рабочих, студентов, молодых селян или просто встретиться, заговорить — на улице, в трамвае, дома — с интересным, остроумным и озорным собеседником, житейски опытным человеком, которому ничто человеческое не чуждо?!
Скольким людям на свете помог его спокойный, справедливо-требовательный взгляд на происходящее вокруг, на себя, на собеседника, на всю нашу жизнь, его взвешенный оптимизм (не наивно-восторженный, а умудренно-зрелый, чуточку ироничный, с лукавинкой), его непримиримость к хамству, иждивенчеству, цинизму, наконец, его открытость и доброта, за которые ему столько попадало в жизни — и все не впрок.
Конечно, на вкус, на цвет товарищей нет — ив поэзии тоже пристрастия бывают разные. И мне бы не хотелось здесь кого-то из читателей оспаривать, переориентировать, боже упаси, агитировать. Я обращаюсь в первую очередь к тем, кто уже знает и любит стихи Михаила Суворова, ну, и к тем, кто хоть немного слышал о них, кому что-то говорили о поэте, но собственное отношение к его стихам еще не сложилось. Ну, а для тех, кто пока не знает ни стихов, ни имени их автора, мне хотелось бы — как смогу, насколько сумею — представить этого совсем простого человека с непростой судьбой...
Лет тридцать с лишним тому назад шумная студенческая стайка будущих педагогов пришла в книжный магазин «Молодая гвардия» на встречу с приезжими столичными поэтами, кажется, далеко не крупного ранга. Один из приезжих, явно рисуясь, заявил: — Ну, меня вы тут не поймете, я пишу «белым» стихом!.. Мгновенно последовала ответная ироническая реплика Суворова: — Ну, где нам?! Мы только «красные» стихи понимаем! — уже тогда наш институтский поэт не лез в карман за словом. А мы шутили о нем: верхневолжский, подмосковный, самый рузский наш поэт. И виной тому каламбуру была тихая подмосковная речушка Руза, на берегу которой в деревне Тишино 24 февраля 1930 года родился Михаил Суворов.
В многодетной дружной крестьянской семье Суворовых любили петь, охотно сказывали сказки, по-русски озорно пересыпали речь острым словцом, меткой присказкой, прибауткой, любили беззлобно, от души пошутить. Книжек особо не было, жили небогато. От родителей передалась Мише любовь к родной природе, умение понимать ее, общаться, как с живым существом,, чувствовать ее боль, радость цветения. «Цвети, земля моя!»...» — назовет он много позже одну из самых популярных своих песен...
Но вот началась война, и Тишино перестало оправдывать свое негромкое название — неподалеку шли упорные бои, здесь были подступы к Москве, знаменитое Волоколамское направление. Когда бои подошли вплотную к их местам, Суворовы, мать с ребятишками, стали беженцами. Возвращаться же пришлось к пепелищу. Повидал он и оккупацию, испытал голод и холод. И ничего удивительного не было в том, что одиннадцатилетнему подростку, маленькому мужчине М. Суворову довелось стать рабочим на местной картонной фабрике. Потом он поэтически осмыслит это:
Еще мальчишкой к верстаку
Я встал, тисков не доставая,
Деталь, как первую строку,
Точил, ладоши обжигая.
В глаза плескалась блеском сталь,
Рука нетвердая немела.
Но сил затраченных не жаль,
Деталь, как стих литой, запела...
Война рано оборвала детство Михаила. Запомнился не только ящик, что приходилось подставлять ему, малорослому, возле станка в цехе, - были и более страшные воспоминания («В глазах у сестренки неласково Голодные тени снуют. Не знал ее маленький ротик Ни хлеба, ни молока. Я помню, нетесаный гробик Игрушкой поплыл на руках...»). Но не надо думать, что поэт специально сгущает в стихах трагические ноты и мотивы, что хочет разжалобить, что нажимает на сострадание читателей к себе, к своему поколению. Вовсе нет! С самых первых шагов в поэзию он остается верным правде жизни, которая не обделила его, мальчишку, тяжелейшими испытаниями («Качнулось небо над рекою. Отец упал в густой бурьян, Сжимая стынущей рукою Еще дымящийся наган»), среди которых не последним был и тяжелый — на всю жизнь! — плен недуга:
...Но взрыва незрячая сила
Своей необузданной властью
В глазах моих мир погасила.
Моли не моли о пощаде —
Но мрак не отступится прочь.
Глухой ленинградской блокадой
Меня опоясала ночь...
Уже хотя бы по приведенным здесь стихам, да и по многим другим, заметно, что на первых порах работы в поэзии Михаил Суворов стремился к осязаемому, пластическому образу — ему виделись, рвались из души образы емкие, цветные — поэту очень хотелось, пусть хоть в стихах, снова стать зрячим. Вот откуда у него упор на броские изобразительно-выразительные детали, порой перераставшие в красивости.
Может быть, излишне прямолинейными, наивными были те его ранние, студенческой поры стихи, что печатались в пединститутской многотиражной газете, и все же именно тогдашний редактор Алексей Павлович Малеев был одним из первых наставников, поверивших в поэтическую судьбу М. Суворова, благословивших его музу.
Стихи из «Калининца», из областной молодежной газеты «Смена», со страниц «Калининской правды» собрались, слетелись под «крышу» первых сборников поэта «Верность» (1958 г.) и «Счастье» (1959 г.). Молодым читателям той поры, не избалованным обилием поэтической продукции, да еще с учетом местного, земляческого патриотизма, — нам произведения Суворова нравились все подряд. В них быломного патриотики, молодого задора, любовной лирики, может быть, немало наивной уверенности в нашем общем праве на счастье, на радость — ведь война, трудности, горе — все позади!
Направленность тех ранних стихотворений, книжек поэта просматривалась довольно отчетливо — оптимизм и задор, юношеско-студенческая романтика, признания в дружбе и любви, утверждение себя и своего поколения, воспевание героизма, подвига, красоты, верности. Пожалуй, именно нравственный пафос высокой человечности, искренности чувства, осознания долга — вот что составляло главный нерв его поэзии.
...Увидел зари полушалок цыганский,
Что утро набросило соснам на плечи,
И мне захотелось пропеть не романсы,
А гимн о любви, о весне человечьей!
Землю, где все обогрели лучи,
Землю воспеть, где мальчишкою рос,
В сердце такая кантата звучит:
Если позволить — умчится до звезд.
Только не к звездам,
а к людям, к земле,
С кем принимаю в работе участье,
Песня моя полетит на крыле,
Имя которому —
счастье!
Шли годы, появлялись новые стихи, поэмы. По-пушкински светлые, жизнерадостные мотивы сменялись раздумчиво-тревожными интонациями, когда речь заходила о войне — о той, минувшей, еще не отболевшей, кровоточащей — и о возможной новой, которую никак нельзя допустить.
И в стихах Михаила Суворова нарастают, крепнут высокие гражданские мотивы (они были и раньше, но тогда в них заметно ощущалась некоторая декларативность, например: «Но падая на лестничные плиты, Рабочий знал, что правда победит. Теперь, из бронзы на века отлитый, Он как живой над малышом стоит»).
Теперь такие мотивы преимущественно возникают в оптимистически-трагедийных монологах, балладах, воспоминаниях о страшной беде, подстерегшей будущего поэта в 1943 году. Они звучат в стихах «Вы знаете стоимость солнца...», «В картинной галерее», «Операция», «Я не служил...» и в ряде других. Здесь и гражданственность как бы сама органически выливается из содержания, причем глубоко личная трагедия наполняется социальным звучанием, общезначимой болью:
...Я помню детство, пламенем охваченное,
Когда в шинель одетая страна
Свои полки к победе разворачивала
Ах, как мы ждали возвращенья наших!
Помочь хотелось, только что я мог?!
Слепой мальчишка, на себе познавший
Паучью свастику, что взводит вновь курок.
В его стихах 60-х годов не было бездумно-пафосной риторики. Особенность и достоинство поэзии Суворова видится в том, что сокровенно-доверительную, подчас пронзительную искренность он старается контаминировать, сопрягать с общественно-значимыми темами, мотивами, образами. Дело это ювелирно тонкое, деликатное — и не все получается, как хотелось бы, и не всем может понравиться (едва ли можно назвать удачными такие вещи, как «Я не плачу», «Работа» и некоторые другие). И все же откройте, перечитайте, ну хотя бы его стихотворение «Операция» — и не надо доказывать, что перед вами истинно поэтическое творение. Построенное на цепочке сравнений, олицетворений («и сердце, как по лестнице, по ребрам — вверх и вниз», «...на дно глазниц тупой клешнею краба входил холодный шприц», «и вновь рассветы синие, что грезились во сне, поплыли мимо, мимо в больничной тишине»), это поэтическое признание-исповедь приобретает характер социально-психологического раздумья о времени и о себе.
Рядом — другая, вроде бы чья-то частная, конкретная история, уже рассказанная от третьего лица (стихотворение «Беда»), построена иначе, но и она в финале восходит к обобщению, включает в себя и природу как действующее лицо:
...В палате гулко
Раскачивалась тишина...
А за окном по переулку
Брела ослепшая весна,
Примечательно, что гражданские мотивы у М. Суворова не замыкаются только на трагические темы, на стихи, посвященные памяти сердца. Даже сегодня актуальным воспринимается написанное им около четверти века назад стихотворение «Провинция» — не просто пример гласности, а запальчиво-полемическое неприятие обывательской морали мещанства:
...За какие провинности
Окрестили провинцией
Нас, живущих на Каме,
Нас, на Волге живущих,
Нас, своими руками
Хлеб и стих создающих?
Предвижу, как кто-нибудь поморщится — опять, мол, декларация?! Нет, заявить так во всеуслышание может, имеет право поэт, сформулировавший еще раньше свою жизненную позицию: «я знаю каждому рублю его мозолистую цену». И пусть не смущает читателя незавуалированная перекличка мотивов в стихотворении Суворова «Провинция» с некоторыми стихами Евтушенко — молодому автору было не зазорно искать краски и ориентиры, пробовать голос, настраивать собственную лиру. Примечательно, что в концовке упомянутого стихотворения по-евтушенковски публицистический пафос доминирует над художественностью: «Прохожу не «провинцией», А хозяином дня. Прохожу по столице— Ей нельзя без меня!».
Конечно, многому еще предстояло учиться, многим овладевать. Но завоевания поэтической гражданственной публицистики М. Суворов не собирался сдавать, и одно за другим появляются стихотворения «Сергей Чекмарев», «Уходят в космос корабли», «Дарьина гора»; «Лимузины» и др.
На смену прежним приоритетам — ярким, цветным образам, подчеркнутой метафоричности — приходит главенство мысли, утверждение выстраданных, проверенных собственным опытом догадок, суждений, выводов. Поэт как и прежде любит родину, но на смену прежним восторженно-идеалистическим представлениям приходят новые, объективные суждения, не идеализирующие нашу жизнь, где «... есть грехи и есть ошибки, Где есть еще и дураки, Что к нашей радости прилипли, Как к доброй почве сорняки». Выпалыванием всякого рода «чертополоха» тоже должна заниматься поэзия — и в этом один из существенных, краеугольных камней творческой концепции М. И. Суворова, а проявляется это в его стихах всякий раз по-разному. Вот как открыто реализуется авторская позиция в стихотворении «Июльская заря» (1968):
Бежит поселок, и
Печатно вклеено в забор
«Поселок Временный».
Как бранью,
Забор названьем бил в упор.
Дома и фабрики громада,
И красный флаг, что в небо врос, —
Все это временно?!
Неправда
И лень мою смахнула злость...
Такой открытый публицистический пафос, подчеркнутая активная жизненная позиция и в давние времена да и теперь порой становятся объектом острых полемических нападок (вспомним, как обвиняли в «топорности» музу Некрасова, как упрекали Маяковского: «...сплошная риторика! Поэзия где же? — одна публицистика!»). Отбушевало немало споров, вспыхивают то и дело новые. Были постановления, правильные и не очень, и переоценки привычного, устоявшегося тоже были. Но общечеловеческое, вневременное, то, что делает человека человеком, — никогда не потеряет цены, будет служить новым и новым поколениям. Понимает это и Михаил Суворов и участвует, как может, в этой борьбе поим поэтическим словом:
...Я слышу голос новой, пятой книжки.
Она права, она сто раз права:
Я засиделся в озорных мальчишках,
Я слишком долго тешился стихом,
Где рифмы голубели васильками...
А за горами громыхает гром,
И шар земной дымится под ногами.
И солнце раненое кровоточит,
Сползая утром грузно но стене.
Березы санитарками хлопочут
В рассветной родниковой тишине...
И я готов с любовью распроститься,
Готов сменять страницы на бинты
Но у берез летучие ресницы
Такой земной, греховной красоты.
Уже хотя бы в приведенных строках многое обращает на себя внимание. Ритмика стиха явно приближается к разговорным интонациям. Фраза то укладывается в короткую строку, то не вмещается в целое четверостишие, как бы замедляя действие. Эпитетов то нет совсем, то вдруг они по авторской воле «сгущаются»: рассветная, родниковая тишина, летучие ресницы берез, земная, греховная красота... При этом яркость, сочность образов органично сочетается с тонким психологизмом письма, с четкой выверенностью позиции.
Сочетание публицистического пафоса и подлинной художественности, идея в яркой образной форме — вот что на долгие годы стало основой индивидуального творческого метода поэта М. Суворова. А ведь ему работать над поэтической строкой много труднее, чем всем иным. Еще в предисловии к его первому сборнику «Верность» отмечалось: «обычно поэт зрительно воспринимает все то, что он воссоздает на бумаге, имеет счастливую возможность бессчетно раз перечеркивать неудачные слова, заменять их новыми, оттачивать каждую строчку, каждую мысль. У Михаила Суворова творческая лаборатория иная... Он принужден работать над своими стихами без бумаги и карандаша, откладывая каждое слово, каждую строфу в своей памяти» (А. П. Малеев). Физически, умственно это неимоверно тяжело (для сравнения попробуйте вспомнить порядок ходов в вашей только что закончившейся шахматной партии. Знаю, скажете: да это же невозможно!). А у Суворова просто нет иной возможности — все надо запомнить, да еще сколько шлифовки, отделки потребуется! Напряжение духовных и физических сил происходит колоссальное — так недолго и перенапрячь нервную систему. Где же черпать силы? Есть ли какой-то аккумулятор, источник энергии?.. Для Михаила Ивановича таким источником идейно-нравственной подзарядки, душевным аккумулятором стал Николай Островский.
Этот пример был нужен Суворову в детстве — чтобы выжить, не сломиться; потом в Куйбышевской спецшколе-интернате — чтобы выучиться, стать человеком; и, наконец, в творчестве — чтобы не отставать, чтобы стремиться только вперед, только на линию огня… И не случайно одно из лучших суворовских стихотворений (точнее говоря, фрагмент поэмы «Плечом к плечу») названо именем Николая Островского. Да, Суворов отдавал себе отчет, что об Островском уже много писали. И у него — не повторение уже известных стихов-памятников, не перепев знаменитой симоновской поэмы «Победитель». Михаил Иванович сумел найти неповторимо свои, мужественные, строгие краски, интонации для сдержанного, по-мужски немногословного признания в любви своему «вожатому», наставнику, человеку из легенды:
...Еще далеко до затишья
На трижды прекрасной земле.
Сдаваться буденновцу рано —
Он будет роман диктовать,
Он будет в обойму романа
Слова, как патроны, вгонять...
Он слышит, как бухают пушки
Он слышит друзей голоса.
И строчки раскатисто льются,
Под сердцем бойца раскалясь.
Соавтор его —
Революция
Редактор -
Советская власть.
Он встал над собой,
он себя победил.
Такое куда посложнее,
Чем с боем прорваться во вражеский тыл,
Чем с боем прорвать окруженье.
Пускай героизм —
это тоже талант,
Как, скажем, талант стихотворца
Но он только
несгибаемым дан,
Кто сам никогда не сдается!
Может быть, кому-то не понравится неумеренное цитирование стихов, кому-нибудь окажется не по душе иллюстрирование тех или иных положений стихотворными строками, но такова уж моя задача — возможно шире, разнообразнее представить читателям написанное Михаилом Суворовым за 35 лет его работы в поэзии.
Да, он поэт-профессионал, автор многих поэтических сборников. Но этому ничуть не противоречит тот факт, что вот уже больше тридцати лет изо дня в день спешит М. И. Суворов на работу — в специализированной очно-заочной школе рабочей молодежи для слепых он преподает литературу и историю. В 1968 г. в рецензии на его очередную книжку стихов я писал: ... видно, как вырос поэт, как возросла его требовательность к слову, беспощадность к себе. Последняя черта роднит обе профессии Суворова. И кто знает, что главнее, ближе для него — работа учителя или поэта? А может быть, и вопрос так ставить нельзя — ведь настоящий урок должен звучать, как поэма, а истинный поэт призван учить и воспитывать читателей.
Кстати, в школах — в Зубцове или Медном, в Вышнем Волочке или Молокове, в Завидове или Нелидове, во многих школах Твери, да и только ли здесь — поэзия М. Суворова знакома многим юным читателям, любима ими. Я пытался выяснить, что же привлекает в ней читателей-школьников, студентов. Разброс суждений оказался очень широкий, зато аргументации было явно маловато. Наиболее часто повторялись мнения: пишет просто, понятно; природа у него как живая; вроде бы о страданиях рассказывает, а не жалуется; о любви у него хорошо говорится, задушевно; нравится, потому что он веселый и озорной; а я его песни больше люблю...
Словом, что ни реплика, то повод для обстоятельного разговора — в сжатых рамках небольшой брошюры обо всем и не скажешь. Но оснований для читательских раздумий множество.
Как-то в беседе в одной из школ (а выступать мне приходится нередко) ребята спросили: а о чем пишет Суворов? Я начал отвечать — и вдруг немножко растерялся. А в самом деле — о чем? О природе — да, о любви — конечно, о войне — очень мало, о трудном детстве — тоже, о далеком прошлом нашей родины — есть и это, о знаменитых, интересных людях — и этого не отнимешь. А острейшие нравственные темы, вневременные и актуальные, а вопросы труда, культуры, образования — да всего сразу и не припомнишь! Словом, в его стихах — сама жизнь в ее сложных и тонких переплетениях, сопряжениях, противоречиях.
Жизнь, на которую просто нельзя не откликаться, ибо она то и дело властно дает знать о себе, стучится в нашу дверь, настойчиво ставит неотложные задачи, от которых не отмахнешься, требует самоопределения позиций. А Михаил Суворов — коммунист, значит, его место — в строю, на переднем крае неимоверно обострившейся идеологической и нравственной борьбы.
Активность его лирического героя, пафос убежденности реализуется не во внешней позе, не в броских эффектных приемах вроде жонглирования словом, а в содержании, в самом пульсирующем эмоциональном ладе его стихов. Это может быть всплеск боли душевной («Третий день гуляет свадьба — Третий день не косят рожь!») или неспешно-раздумчивое размышление вслух, столь характерное для его поэзии последних лет:
Слезой росы зовет земля,
Крестами дедовских погостов:
Без человека ей непросто,
Без человека ей нельзя.
А поезда, как челноки,
Стучат, стучат, сшивая дали,
Такие разные детали,
Такие разные куски.
Куда спешим, скажите, люди?..
Когда в стихах Суворова заходит разговор о нем самом, подчас можно заметить негромкое подтрунивание, легкую самоиронию. Поначалу это было немножко в лоб, прямолинейно («И влюбленные долго прощались. На рыбалку я рано хожу, Но о том, что они целовались, — Никому ни за что не скажу!»). Потом, постепенно автор начинает задумываться о подтексте. И, видимо, совсем не случайно грустное по теме стихотворение «Осень в больнице» заканчивается не просто оптимистично, а с легкой озорнинкой: «Осень — к окнам ближе, Вся позолотилась. Не в меня ли, рыжего, Рыжая влюбилась?!».
В последние годы самоирония в стихах становится еще тоньше. Таково, например, его стихотворение «Я писал о Сталине стихи», где концовка довольно многозначительна: «Замолить бы юности грехи, Но глухи к моим молитвам боги...». Кстати, здесь мы попутно выходим на один из принципов эстетической системы М. И. Суворова: особую важность в его стихотворных произведениях приобретают концовки, здесь — самое существенное, порой неожиданное, может быть, сгусток мысли — вроде морали в басне. Заметно, что все, чаще в своем лиро-эпосе Михаил Иванович использует чисто лирический композиционный прием обрамления, когда концовка перекликается или повторяет (может быть, с небольшими изменениями) начальные строки произведения. Этим подчеркивается впечатление законченности, стройности, цельности стихотворения, большей весомости того, что в нем утверждается.
А есть у поэта и стихотворения-отрицания, где он тоже гражданственен и страстен и где есть не меньше (если не больше) опасности впасть в декларативность, вроде модных провозглашений типа: Я ненавижу в людях ложь! — такой легковесности он старается избегать. Ведь и отрицание тоже должно быть эстетически обоснованным;
...Я покинул рощу на рассвете,
Чуть блеснула синевой роса.
Ветер, ветер,
молодчина ветер,
Разбудивший птичьи голоса!
Капля солнца в клюве соловьином.
Встрепенулись ивы у реки.
Рылом в рощу спали лимузины,
Сытые, тупые чужаки...
Это стихотворение далеко не единственное у Суворова, где он обличает чуждые нам явления, всякого рода «чертополох». Характерно, что чванство, эгоизм, оголтелое мещанство не просто стягиваются в самых разных его стихах в собирательный образ «чужака», врага, но в той или иной форме им непременно противостоит «наше» — близкое и дорогое поэту. И чаще всего таким идеалом предстает человек-труженик («Уборщицам скупятся на медали, Но в ней душа российских матерей...», «А поле звенело, как в золоте лес, И женские руки ласкали пшеницу. Уходят деревни с насиженных мест, Я этим деревням хочу поклониться»). Видится идеалом и мир деревенского детства («Мне часто снится детство в конопушках И рыжая телушка у крыльца», «В меня вошла, отсеивая что-то. Крестьянского уюта простота»).
Но представление об идеале поэта было бы неполным без красивого, доброго, живого и мудрого мира родной природы. Это как бы нравственная колыбель личности, ее истоки и потенциал:
Сюда приходит тишина
С березовой опушки,
И поднимаются со дна
Кувшинки, как веснушки.
Я здесь родился и ушел
На дальний зов ветров.
Теперь я знаю много сел
И много городов.
Но часто слышу невзначай
Певучий плеск воды:
«Не забывай, не забывай
Своих истоков ты!..»
Десятилетия работы в «поэтическом цехе» не расшатали, не ослабили уверенности М. Суворова в силе целебного воздействия родных пейзажей на душу русского человека. Это видно и по его лирическому герою, и по самым разным персонажам, столь органично вписывающимся в «контекст» родной для них и для автора среднерусской природы, и по фигурам подлинных исторических лиц, хоть и нечасто, но появляющихся на страницах его стихов; пронзительно-тоскующим представляется ему Есенин, которого увезла в Париж Айседора Дункан:
…Он грезил дождиком грибным.
Он видел степь за поворотом,
Где рожь, где розовый туман...
И сквозь года пробился шепот:
— Ты отпусти меня, Дункан! —
Пробилась боль души такая,
Что захлебнешься болью той:
—Ты отпусти меня, родная,
В Россию, в росы, в синь, домой!
И это не только есенинское, но и суворовское восприятие родины. Кстати, уже одни заглавия его книг — «Капли зари», «Зеленая ветка», «Стоимость солнца», «Ромашковый омут», «Белая теплынь», «Цветная вьюга» — как бы символизируют неразрывную соединенность души поэта и родины. Хочется думать, что совсем не случайно именно его стихи о природе, такие как «Мир — какое небо надо мной!..», «Май — наши грезы и мечты...», «Над землей дождями звезды сыплются...» и другие стали широко популярными песнями.
Примечательно, что если поначалу поэт придавал исключительное внимание яркости, зримости, пластичности образа природы, то сейчас он вправе повторить за классиком: «Иные мне милы картины...». Да, теперь М. Суворову важнее емкость образа, точность психологической детали, одухотворение пейзажа, созвучие его настроению и думам человека. Природа в его стихах последних лет живет, трудится, переживает, ей свойственны способность любить и ненавидеть, ей недужится и помнится — ну, совсем как человеку. И потому «Давно улегся спать закат. Давно звезда на небосклоне. И траки трактора блестят, Как две развернутых гармони», а где-то «...зерна, колос раздвигая, Глазасто глянули вокруг, Гордясь грядущим урожаем». Заметьте, автор заботится не только о психологической убедительности, жизненности образа, но и о звучании строки, искусно и ненавязчиво используя звуковые гаммы, ассонансы и аллитерации.
И когда поэт восклицает в стихах: «Снегири, снегири, санитары мои...», — мы понимаем убедительность этого приложения, не можем не верить, ибо это и наше тоже ощущение прикосновения к прекрасному. Интонация исповедальности, доверия, душевной открытости — вот что привлекает нас в его пейзажной лирике, заставляет раздумывать, сочувствовать, сопереживать вместе с поэтом.
...Лес таит всегда загадочность
В глубях темно-голубых.
Но березы белоствольные
Входят в сердце каждый раз,
Словно это песня сольная,
Что не зря волнует нас...
Почему-то очень верится,
Глас науки заглуша,
Что в березах тихо светится
Наша русская душа...
Впечатляет... Как тут не согласиться с тезисом местного критика и литературоведа профессора Ю. М. Никишова о том, что «духовное зрение поэта, согретое страстным, заинтересованным чувством, не обманывает, не подводит М. Суворова» (Ю. Никишов. Лад негромких строк. — Калининская правда, 31 января 1981 г.).
Наверное, этим и объясняется нередкое в стихах М. Суворова включение истинно народных словечек, оборотов, сравнений и поговорок, как бы олицетворяющих голос, образ самой природы, малой родины («Лебединую шею на тихой заре Выгибают упруго колосья», «Дожди идут не там, где просят. А чаще там, где сено косят», «Трудна у поля доля, Но мы навечно с ним...»). И уже не просто духовное зрение, но взгляд на мир или мировоззрение художника выливается в целостную концепцию нерасторжимости родной земли и творчества человека на ней, причем творчества любого — хлеборобского, заводского, поэтического — но непременно созидательного, жизнеутверждающего:
...Меня влечет с годами все сильней,
К тропинкам, что не значатся на картах,
К истокам жизни на земле моей...
Глядит на мир доверчиво роса,
Как будто это женщин наших северных
Российские рассветные глаза.
Они — мое святое озарение.
Земля отцов — она не чернобыл,
А золотая жила вдохновения,
Которую я в детстве застолбил.
Признаюсь, мне даже увиделось здесь — в полемическом запале (не знаю, согласится ли автор) — отрицание бездуховности, в том числе и страшной чернобыльской трагедии. Да, духовное прозрение не мельче, не ниже физического (чуть было не сказал: выше, да спохватился — а есть ли у нас, зрячих, право мерять, сравнивать?!). Но когда в одном из его стихотворений — в картинной галерее, под рукой слепого посетителя, вдруг оживают вздыбленные бронзовые кони, и он ощущает, нет, видит! — «каждый мускул и одичалые глаза» — внимательный читатель может заметить, как образ вдруг начинает разворачиваться в глубину. Поэт смог увидеть больше — красоту души гения, создавшего этот шедевр. И еще больше — душевное состояние творца, торжество его гнева за обездоленных, «за ту посконную Россию, что загоняли в темноту» (чувствуете, какой многослойной становится в поэтическом контексте «темнота»?!). Вот оно, высшее прозрение, доступное только истинному Поэту.
Всякий раз, когда мне приходится говорить или писать о Михаиле Суворове, я не могу скрыть, радостного изумления: сколько же нового, волнующего, интересного открывается в, казалось бы, уже знакомых стихах. Но при этом я открываю для себя одно, а кто-то наткнется на совсем иные строки, мысли, образы и тоже зачарованно замрет. Мне, например, понравились его неожиданные слова про май: «Месяц розовых садов. Месяц флагов, месяц песен, Больше всех его люблю — Здравствуй, Май, победный месяц, Брат весне и Октябрю!». Правда же, интересно, неожиданно, здорово! Ну, а разве хуже его тихое, проникновенно-задушевное: «У природы — язык человечий, Только ты его сердцем услышь...»
А ведь можно было бы привести и десятки других, не менее ярких и убедительных примеров... На одном из вечеров поэт получил из зала записку: «Спасибо за великолепные стихи, за радость, которую вы так щедро дарите людям. Спасибо за солнце, свет, счастье, что приходит в сердце с вашими стихами (приводится по корреспонденции А. Степановой «Вдохновенное слово «поэта» в «Калининской правде» за 5 мая 1983 г.). Добавлю, что и вечеров таких и записок от благодарных слушателей, читателей было и, дай бог, будет много.
Уже не раз доводилось слышать, что поэзия Суворова является преимущественно устной — в ней звучит интонация собеседования, предполагающая реакцию слушателей, в ней много воздуха, пауз, ее лучше воспринимать на слух. Вероятно, истина здесь есть, если иметь в виду специфику «складывания» стихов; но с теми оппонентами, кто вкладывает в понятие «устной поэзии» снижающий, оценочный смысл, категорически не могу согласиться. Кстати, и стихи Е. Евтушенко, Р. Рождественского, да и А. Вознесенского лучше воспринимаются именно слушающими.
Что же касается поэта М. Суворова — ни в каких «дотациях», поблажках, в искусственном подхваливании он не нуждается. Тяжелые испытания недугом, другие житейские невзгоды и тяготы, выпавшие на его долю, закалили человека, помогли стать выносливым и стойким.
Одну из недавних своих книжек, по хронологии седьмую, поэт назвал «Белая теплынь». Уже само заглавие заинтриговывает: а почему теплынь — белая? Теплынь — что-то близкое к жаре, зною — тут, наверное, уместнее бы говорить о желтом, золотом (кстати, очень характерном цвете для поэзии Есенина). Но Суворов распорядился словом иначе и не без оснований. Жарко может быть человеку, труженику и зимой. А еще теплынь белая, видимо, потому, что и пора цветения в природе тоже может давать ощущение тепла — тепла душевного. И вот об этой сердечной теплоте как нравственном состоянии человека и рассказывает нам поэт, причем делает это просто, может быть, даже застенчиво.
Я знаком практически со всем творчеством Михаила Ивановича Суворова и знаю: если поначалу были сильны в его стихах ораторские интонации, декларативная описательность, то с годами, с опытом это заметно уходит. Совсем ли изжито — другой вопрос, но серьезные сдвиги очевидны. Суворов доверительно искренен, предельно честен по отношению к читателю. Но зато и стихи его требуют ответной «работы души», желания и умения постичь замысел, разделить авторские переживания и раздумья. Единомыслие едва ли обязательно (разве поэт не имеет права на риск, разве не подкарауливает и его возможность срыва, неудачи?!) — в нынешнюю пору плюрализма, несовпадения в оценках, вкусах, впечатлениях не только не удивительны, но могут оказаться и весьма широкими.
Возможно, стоило бы здесь подробнее говорить о яркой метафоричности поэзии Суворова, о природе ее образности, о стилевых доминантах, об олицетворении как одном из ведущих приемов в его богатой палитре словесных красок. Есть в его поэзии сквозные образы — узловые, принципиально важные по смыслу, доходящие до символа понятия, стягивающие в себе очень многое — это «солнце», «счастье», «взлет (полет)», земля», «боль», «красота». Вовсе не исключаю, что кто-то из его читателей сделает акцент и на других ударных понятиях. Может быть, надо было обстоятельнее остановиться на заметном у поэта тяготении к сюжетности, балладности, что наиболее заметно выразилось в его ранних «Балладе об отце», «Балладе о Тамаре» и др., подробнее поговорить о жанрово-стилевом богатстве и разнообразии его стихов, углубить аналитичность разговора.
Может быть, и надо было... Но что-то удерживает меня. На одном из диспутов о литературе известный поэт, лауреат Ленинской премии Егор Исаев сказал: «Я очень уважаю «академическое литературоведение». Но чтобы рассказать о художнике, о его творческой лаборатории, нужно самому мыслить по-писательски. Процесс творчества может быть раскрыт только теми же способами: художественным проникновением в замысел, его эволюцию, в путь воплощения первоначальных раздумий...».
Эту мысль продолжает и развивает критик Анатолий Елкин, но книге которого я и привел мысль Е. Исаева: «Творчество, как ничто другое, не поддается поверке алгеброй, умозрительными конструкциями. Понять, как рождена книга, образ, строка, — значит сопережить мгновения такого рождения. Самому увидеть, как дрожала заря на утренней росе. Тогда и есенинский «розовый конь» не покажется фантастической выдумкой» (А. С. Елкин. Судьба книг и рукописей. — М„ Просвещение, 1976. С. 8, 9).
Цветная вьюга, бинокли памяти, песни разлук — это не только названия стихотворений, созданных поэтом в самое последнее время. Это его состояние души, многоцветное, яркое и сложное богатство его палитры, «сердца золотой запас». Вот как начинается его рассказ о приходе весны, вроде бы так знакомом всем нам. И... все неожиданно:
Почти на стеклянной березовой ветке,
Где синих сосулек нечаянный плач,
Как будто письмо в нераскрытом конверте,
Пристроился первый отчаянный грач.
Ну, что тут бросается нам в глаза? Зримость картины, тонкость и точность деталей, пластичность образа, интересный подбор созвучий. И еще… доброта — так не смог бы подумать и высказать мысль вслух жестокий, завистливый, мелочный человек. И вся поэзия у Суворова — добрая, светлая, теплая. И отзывчивая на добро, памятливая.
Но добро и память — сочетаются ли, «рифмуются» ли они, не встревает ли тут ироническая сторона пословицы: кто старое помянет, тому глаз вон?! (Здесь возникает какой-то зловещий второй смысл). Но давайте уточним: доброта по-суворовски — вовсе не всепрощение, и вместе с тем быть беспамятными Иванами, не помнящими родства — безнравственно, подло. Стремление осмыслить, постичь свои истоки, исторические корни вообще должно быть естественным свойством нормального человека, а в бурное время перестройки общественного сознания и тем паче. К тому же, не забудем, Михаил Иванович по своему базовому образованию — учитель-историк. Не потому ли в его доброй и светлой поэзии немало произведений на исторические темы.
В этих стихотворениях осмысливаются и сравнительно недавние страницы нашего ратного, героического и трагического прошлого, но есть и экскурсы в давно минувшие века, обращения не только к реальным историческим личностям, а и к фигурам мифологическим, фольклорным. Разумеется, много и подолгу приходилось поэту засиживаться над старинными источниками, мемуарами, воспоминаниями — читать, сопоставлять, воображать, догадываться. Поэт имеет право на домысел, однако фантазия не должна противоречить исторической и художественной правде.
Поначалу Суворов в разработке исторической темы шел от воссоздания образов интересных для него людей, например, поэтов С. Чекмарева, Г. Суворова, древнеримского Овидия. Отсюда осязаемая ниточка в его творчестве протягивается к поэтическому циклу «Портреты». Название это, по-моему, условно и не совсем удачно: в стихах этого цикла «Корсар», «Машук», «Лирик», «Ностальгия», «Кинжал Грибоедова» перед нами не предстают целостные портреты Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Есенина, Грибоедова, — а через отдельные эпизоды, сцены, поступки, черты их характеров передается вклюбленность в них товарища, потомка. Впрочем, торопиться с выводами не будем — этот цикл, как и многое в поэзии Суворова, находится в движении, продолжается. А создать представление (или кому-то напомнить) о стихах цикла поможет хотя бы вот такой фрагмент:
Но, вскинув пыльную планету.
Ударил гром невдалеке,
Как колокол на смерть поэта,
Убитого на Машуке.
Я — шапку прочь и в шатком гуле
Печалюсь, будто в тишине.
Давно расплющенные пули
Вошли в меня,
болят во мне.
Что это — монолог, воспоминание, раздумье вслух?.. А может быть, и не нужен однозначный, категоричный ответ?! Известный ученый академик В. М. Жирмунский выделял разговорный, декламативный и напевный типы лирики. Как это соотнести с поэзией М. И. Суворова? В его стихах преобладает разговорный тип — поэт тяготеет, говоря словами В. М. Жирмунского, к синтаксической свободе «живого, не писанного слова». Но и декламативный, и напевный типы лирики Михаилу Ивановичу тоже не чужды — полифонизм и многоцветье, певучесть присущи его стихам:
...Не могу я уснуть, не могу:
Где-то кони храпят на бегу.
Где-то бурка летит за плечами,
Где-то падает Павка Корчагин...
Мне бы тоже скакать и упасть
За мою за Советскую власть,
Чтоб потом над моим над курганом
Проливались закаты багряно.
Своеобразно, подчас в неожиданном плане осмысливаются исторические темы, мотивы, сюжеты в цикле стихов М. Суворова, созданном на материале русских народных былин, и в примыкающих сюда же балладах по мотивам фольклора других стран и народов, например, в балладе «Кольцо», поэтическом переложении давней ирландской легенды.
Былинный эпос интересен Суворову не только и не столько с чисто исторической стороны, сколько со стороны нравственно - психологической, ну и, конечно, с литературной. Вроде бы знакомый всем по школьным программам материал поэт поворачивает новыми, неожиданными гранями: включите это в обычный, «казенный» школьный урок — и он расцветет, заиграет свежими красками. В отличие от «взаправдашних» былин в стихах нашего земляка отчетливо просматривается педагогический, нравоучительный подтекст, столь важный для учителя, Возьмем хотя бы очень знакомый ученикам сюжет «Вольга и Микула» — тот же мотив гордой независимости Микулы Селяниновича и уязвленного княжеского самолюбия, и нереализованного гневного порыва проучить дерзкого холопа — а дальше появляется совсем не былинное, хотя по-человечески очень понятное юным слушателям-ученикам:
...Но эта сошка не давалась,
Хоть гнули сошку вкривь и вкось, —
Из борозды не вынималась,
Торчала, будто в горле кость.
Вольга шелковый бросил повод,
Схватил чапыги, разозлясь.
Над ним заныл тяжелый овод
И впился в шею, изловчась.
Потело княжеское тело,
Тряслась в запале борода...
Как дуб, соха в земле сидела —
И ни туда и ни сюда.
Дальше Микула, как и полагается по былинному сюжету, легко выдергивает и отшвыривает соху, но и опять сам факт в стихотворении — не главное, важнее его мотивировка:
...Не зря поскреб загривок князь,
Спросил раба неторопливо: —
Откуда силушка взялась?
Ответил тот, не дрогнув бровью,
Не ради князя — правды для:
— Землицу холил я с любовью —
Сторицей платит мне земля!
Что ж, смысл былины не изменился, а вот акценты расставлены по-новому, с педагогическим уклоном. Прошу понять правильно: я не за подмену программного школьного материала самодельным, но считаю использование такого дополнительного материала на уроке или во внеурочное время очень желательным. Вспомним, что выдающийся педагог В. А. Сухомлинский да и многие его единомышленники и последователи вместе со своими учениками сочиняли и сочиняют сказки, истории, сценки, стихи и рассказы в связи с изучаемым материалом (причем не только по литературе).
У Суворова и тут особинка, его ученики — взрослые: это же школа работающей молодежи. Вот и приходится использовать наряду с прочим и какие-то элементы нравственного воспитания, но при этом не морализировать «в лоб» (что, мол, пить вредно, что надо бороться за крепкую семью) — в стихах все это можно провести тоньше, деликатнее. Отсюда у него в сюжете про Илью Муромца и Соловья-разбойника появляется новый, неожиданный поворот: сам знаменитый разбойник не так страшен, это враг явный, но есть — опаснее и коварнее: тут-то и ожидают богатыря «нештатные» испытания — чарами жены разбойника.
Муромец испил живой воды
И промолвил:
— Если б не вода!..
Соловей-разбойник — полбеды,
Вот жена разбойника — беда!
Но было бы большой ошибкой представлять себе М. Суворова женоненавистником, суровым пуританином, букой не от мира сего. Да, ему труднее, чем другим, но жизнь научила его отличать подлинную любовь от притворства, подделки, жалости. Много писал он о любви в студенческие годы и после них, далеко не все из тех наивно-искренних стихов и песен выдержало испытание временем, забылись такие стихи, как «Давай поговорим серьезно», «Соседка», «Он смеялся», «Рыбачка» и некоторые другие. Тема любви, как и все творчество поэта, претерпела существенные изменения. Поначалу любовная лирика была звонкой, озорной, по-студенчески задорной («Я люблю вас, ромашки!..»), но и тогда не все было облегченным («...И впервые сердцем я услышал, Как любовью надо дорожить», «Приветствую любую страсть, Что в человеке человечна!»). С годами стихи его постепенно приобретали спокойную глубину, философичность, наполнялись светлой грустью и житейской мудрой простотой:
Как зазывно рябины краснеют.
Хоть целуйся с такой красотой!
Только я почему-то робею,
Что бывает нечасто со мной.
Непонятная в сердце тревога
Понемногу растет и растет,
Словно кто-то охотничьим рогом
Заплутавшее эхо зовет...
Появлению целого ряда элегий, лирических дум, монологов, разговоров, стихотворных посланий мы, читатели, обязаны тому, что верным другом и спутником поэта стала Ирина Анатольевна Королева, любитель и знаток поэзии, добрая и прочная опора Михаила Ивановича в жизни и творчестве. Кстати, и познакомились они на литературном вечере, когда в Калинине выступал Андрей Вознесенский...
Не просто и не скоро пришли они к своему союзу, и не так уже легко быть жрецами храма искусства, поддерживать негаснущий костер творчества. Говорят: много ли надо человеку?! Если он человек, ему надо много. Ну, а если он еще и поэт, — ему просто необходимо состояние влюбленности— в жизнь, в людей, в того, с кем рука об руку идешь в этот прекрасный и яростный мир. И не случайно ей, Ирине, другу, помощнику, жене, посвящена книга «Ромашковый омут».
Это же посвящение предпослано многим стихам в сборнике «Белая теплынь».
...Неужто напрочь отзвучала
Во мне влюбленности струна?
Но сердце взрывчато стучало:
«Пришла весна,
пришла весна!»
«Во имя чести и любви», говоря словами самого поэта, создавались не только небольшие стихотворения, но и объемные полотна, в основном лирико-эпического характера. Если говорить о чисто историческом произведении серьезно, концептуального плана, в первую очередь надо назвать оптимистически - трагедийную поэму М. Суворова «Ночь княгини Ольги». Правда, пока ее знает лишь небольшой круг слушателей, но в 1990 г. в одном из новых сборников поэта она увидела свет. Интересно то, что в ней не просто запечатлены трудные дни киевской престолодержательницы, бывшей крестьянки, великой княгини Ольги, но и звучит немало общечеловеческих, вневременных нравственных истин. «Когда же мы о хлеборобах Скорбить сподобимся душой?» — эти мучительные раздумья древней княгини актуальны и сейчас, они близки и понятны для «славян потомков синеоких, Кто побывал в боях жестоких Во имя чести и любви».
Вообще крупные формы (жанр поэмы) представлены в его творчестве достаточно широко. Среди поэм, созданных Михаилом Ивановичем в разные годы, назовем «Балладу об отце» (1958), «Балладу о Тамаре» (1959), «Августовскую ночь» (1960), «Весенний разлив» (1961), «Плечом к плечу» 1976) и, наконец, «Красный цвет» (1982).
Разные по мастерству, по масштабу замысла и по силе звучания, они не нашли пока должного осмысления и оценки в критике. Если первые две, хотя и очень лиричные, взволнованные, все же ближе стоят к большому стихотворению, документальны в основе своей (это поэтические повествования о трудной, трагической и все же прекрасной жизни и смерти отца поэта; о короткой жизни-подвиге студентки-партизанки Тамары Ильиной), то последующие две — «Августовская ночь» и «Весенний разлив», по всем признакам претендующие на причисление к рангу поэмы, не стали большими художественными открытиями, событиями в поэтической судьбе автора. Но вот за недооценку поэмы, а строго говоря, свода поэм «Плечом к плечу» (скорбного и гордого раздумья о людях, лишившихся зрения, но пробившихся к признанию, ставших подлинными мастерами своего дела, Людьми с большой буквы) — за это больно и обидно: чего же стоят широковещательные декларации о гуманизме нашего общества?! Добротный, талантливый труд Мастера пока остался фактически невостребованным. Очень хочется верить, что будет у этой поэмы второе рождение!
Ну, а поэму «Красный цвет» (отрывком из которой начиналась эта наша работа) земляки М. Суворова сразу же оценили по достоинству, особенно тепло ее принимает молодежь на поэтических вечерах автора. Школьные словесники охотно используют эту поэму в работе по нравственному воспитанию учащихся старших классов.
Когда мы говорим о богатстве и многогранности поэзии Михаила Ивановича Суворова, нельзя не отметить и такой стороны его дарования, как талант общения с детьми, что дано далеко не каждому. При этом поэт не подлаживается к максимализму юношества, не заигрывает с подростками, не сюсюкает и не приседает па корточки перед маленьким читателем («Чего мне приседать — я сам маленький!» — шутит Суворов). Понятно, дело, конечно, не в росте, а в чудесном умении понимать психологию своих младших собеседников, беседовать с ними доверительно и уважительно, без снисхождения — на равных.
Я уверен, маленькие слушатели, читатели с их преимущественно образным мышлением, с тяготением к конкретно-чувственному восприятию прочитанного, услышанного представят себе, поймут и откликнутся душой, ну, хотя бы, на стихотворение «Яблоня»:
Я не придумал этот образ,
Он душу мне заворожил.
В какую даль, в какую область
Старушка яблоня спешит?..
Она одна. Случилось что-то
С ее семьей?
Она одна.
Непозабытые заботы
Несет покорная спина.
Во мне растерянно, невнятно
Восходит боль былого дня.
Уходит яблоня куда-то,
Не оглянувшись на меня.
Она сутулится под ветром,
Кивает белой головой.
Давно надломленная ветка
Дорожной кажется клюкой.
Чудом сохранившаяся на месте усадьбы, сада кажущаяся старушкой-странницей эта одинокая яблоня может дать толчок для самых разных ассоциаций, воспоминаний, послужит неплохим истоком для сокровенного разговора о деревнях российского Нечерноземья, об отчем доме, о русском поле, о наших нравственных святынях, увы, изрядно потускневших в последнее время. А возрождение их необходимо, и начинать надо со школы.
Одной из студенток Калининского госуниверситета, обратившейся к поэту за материалом для курсовой работы по его творчеству, Михаил Иванович рассказывал: «...Дети — самые благодарные слушатели стихов. И чем они младше, тем внимательнее слушают. Но, конечно, слушатели встречаются разные, и лучше читать небольшой аудитории, классу.
...У меня есть чисто детские стихи, это цикл «Сережкины книжки», я их писал от имени мальчика Сережи, всегда задумчивого. Он сочиняет стихи, а они не получаются. И тогда мальчик приходит и показывает их мне, и я немножко поправляю. Я писал о Сереже Огонькове, о его отношении к миру, о дружбе с отцом, настоящей мужской дружбе...
Посвящен ли детям цикл стихов «Голоса леса» в книжке «Белая теплынь»? Нет, специального посвящения не было. Я писал для читателей любого возраста. Но перед детьми часто выступаю с этими стихами. И ребята их приняли, считают своими. А вообще «Голоса леса» — это воспоминания моего детства, стихи-монологи от имени живых существ...». Наверное, далеко не весь их интересный разговор удалось тут передать. Но вот о чем нельзя не задуматься: правомерно ли, удобно ли помещать рядом «голоса» охотника и сосны, родника и сыроежки, малины и кукушки, волка и муравья, эха и леса (а всего 20 монологов). Вроде бы уж очень различны, если можно так сказать, «весовые» (или голосовые) категории! Скептики и ворчуны среди читателей найдутся.
Но надо ли упрекать поэта? Самоцельны ли эти «волшебные» выступления очеловеченных, одушевленных растений, животных, насекомых, явлений природы и т. д.?? Да это же и не зайчик, и не ягодка земляники — это их голосами сам автор разговаривает с нами, незаметно поучает нас.
Неписанные законы народной нравственности, вековые обычаи, целесообразные нормы и правила поведения, взаимоотношений человека и природы, объединяемых ныне понятием экология, — вот что потребовало от поэта дать «право голоса», одушевить травинку и гриб, птицу и дерево, эхо и букашку. Ну, и конечно же, важен озорной, лукавый подтекст, обнаруживающий житейскую мудрость, а где надо— и нравственную позицию автора. Таково, например, добродушно-хитроватое стихотворение этого цикла «Сморчок» (я слышал, как-то его назвали «выходной арией» Михаила Суворова):
Я—сморчок, старичок.
Старичок я с виду.
Я веселый сморчок,
Не боюсь обиды.
Чуть оттает земля,
Речка заструится —
На лесной полянке я
Улыбаюсь птицам.
А морщины у меня —
Это от мороза.
По ночам по старым пням
Он гуляет грозно.
Жду, дрожу, пока заря
Не согреет росы.
Понимаете, друзья!
Первым быть не просто!
Верхний слой содержания стихотворения делает его интересным, доступным для маленьких читателей, на уровне начальной школы. Но, наверное, не все исчерпывается этим — и при желании в нем можно усмотреть и более глубокую мысль. Мне видится здесь прямая перекличка с раздумчиво-грустными стихами Суворова последних лет о смысле жизни человеческой, о неразрывном единстве человека и природы. Таково его обращение к старой иве, чудом выстоявшей у родного порога (стихотворение «Длится осень»);
...Длится осень звонко-звонко,
Словно бьют колокола.
Постоим еще под ветром
Неурядиц и невзгод.
Кто из нас с тобою первым
Грудью наземь упадет?
Ты не знаешь, я не знаю...
Что пытать судьбу свою?!
Я ведь тоже облетаю,
Осыпаюсь,
но стою...
Наверное, не только мне здесь слышится фоном классическое «Клен ты мой опавший...» и одновременно спорящий с ним мотив стойкости, и чисто русское чувство ответственности, долга «под ветром неурядиц и невзгод». Так, на мой взгляд, суворовские стихи о природе, его голоса леса сопрягаются с набирающей силу в последние годы его же философской лирикой.
Характерно, что глубокая задумчивость, философичность не пришла откуда-то извне, со стороны — она вызрела в недрах самого творчества художника, стала своеобразным сгустком чувств и мысли, оформилась в привычном русле его поэтической манеры, ну, может быть, несколько более замедленными, протяжными стали интонации, более сдержанными краски, остро и тревожно стала пульсировать мысль («Не листву ветла роняет — Дни свои, года свои... — Ничего, моя родная, Поживем и постоим!..»).
Читаешь грустные раздумья М. Суворова и не можешь не задуматься, как ответственна и хлопотна ныне должность поэта на земле, как трудно подчас свыкнуться, смириться с происходящим вокруг, как много нужно зрелой мудрости, достойного спокойствия, терпения и воли, памяти на добро, душевного благородства. И не случайно в одном и том же его стихотворении «Одиноко старятся березы У былых проселочных дорог...», и неподалеку, вдоль новых асфальтовых магистралей «Молодые русые березы Поднялись крылато от земли...». А на перепаде между ними как бы сами собой возникают раздумья лирического героя:
...Боль утрат —
и боль воспоминаний —
Я невольно думаю о ней,
Я ловлю охрипшее дыханье
Недалекой осени моей.
Отгорят закаты голубые,
Отшумит веселье стороной,
И мои тропинки луговые
Зарастут травою-муравой...
В жизни сейчас происходит переоценка многих привычных ценностей, пересмотр понятий, взглядов. Это непросто, это больно, но смолчать, отвернуться нельзя. И вот поэт упрекает птиц ветра и простора, птиц знойной синевы; «Чайки, чайки, как позорно, Что в гостях на свалках вы! Легкой жизни захотели?..». Увы, оказывается, не вина, а беда вольных птиц, что они вынуждены покидать водную гладь:
...Нас меняет не природа —
Царь природы — он мастак!..
А, цари! — и чайка скрылась,
Белокрыла и вольна.
Я молчал, а рядом билась,
Мутно пенилась волна.
Что ж, сам воображаемый разговор человека с речной птицей уже достаточно интересен, неожидан, а ведь тут еще многое в подтексте!
Среди философской лирики поэта привлекают внимание такие его стихи, как «Песня разлук», «Природа», «Золотая жила», «Борьба», «Замонголились наши глаза...», «А болеть надо тоже уметь...», «Миражи», «Церквушки». Вот хотя бы последнее из них — как спокойно, несуетно заставляет нас поэт от созерцания заброшенных разоренных церквушек заглянуть внутрь себя, задуматься о красоте, совести, справедливости:
...От лика гордых русских матерей,
От грусти русской
что-то есть в церквушках.
Не закоптил их сладостный елей,
И ураган событий не разрушил.
Я разбудил бы храмов голоса,
Я разбудил бы снова колокольни,
Чтоб колыхнулись травы и леса
В малиновом, почти забытом звоне.
Чтоб люди улыбнулись новизне
И красоте земного бытия,
Чтоб люди поклонились красоте,
Забытой в чем-то походя и зря...
Поэт заставляет нас... Может быть, житейски привычное, это выражение не совсем адекватно жизненным реалиям, оно излишне упрощает, выпрямляет сложный и тонкий, загадочный процесс восприятия стихотворного произведения, процесс сопереживания происходящему в нем. Кстати, М. Суворов решительно отрицает пассивное, покорное приятие жизни, так сказать, «в страдательном залоге». Помните, как в одном из ранних стихотворений А. Ахматовой: «Но я другу старому не верю — Он смешной, незрячий и убогий. Он всю жизнь свою шагами мерял Длинные и скучные дороги». Тягомотность, бесцельная скучность долгих дорог — не по нему, Суворову важна целеустремленность — куда и во имя чего идти, за что сражаться. Показной бездумный оптимизм — не для него: не всякой жизни стоит радоваться. Идущий с шапкой по вагону электрички нищий — тоже живой, но не кажется ли ему, что он жив?!
Наш тверской поэт исповедует принципиально иную позицию — он не хочет тишины, покоя, ведь «человек тогда живет, когда любим, когда он любит». Его лирический герой — человек активного прямого действия, горячий, порывистый, пусть и ошибающийся, но не согласный на «растительное» прозябание. Ему ближе маяковское, полемически-заостренное: «Парадом развернув моих страниц войска, я прохожу по строчечному фронту».
И это вовсе не противоречит ни его приверженности есенинскому буйству красок и «половодью чувств», ни трагическому осознанию ограниченности своих возможностей («Каким концом ружье стреляет, — Я знаю очень приблизительно»). Но плакаться, привлекать внимание прохожих, читателей к своей личной беде — недостойно бойца, неприлично («И нисколько не боюсь я, Что окрестят бодрячком. У меня характер русский: Если плакать, то молчком»). И это не звонкая декларация, не выигрышная отрепетированная поза — это убеждение в своей обязанности участвовать в борьбе, в решении многих наболевших проблем. И М. Суворов не ждет, когда его спросят, когда проблемы натолкнутся на него — он сам, мучительно непросто идет навстречу им.
...Застонала в гулком зале
Бабка, кутаясь в халат.
Космы грязные упали
На лицо, на мутный взгляд...
Охнул я, теряя силы,
Веря памяти своей:
Как разлетисто косила
Молодайка давних дней!
Как серпом играла прежде —
Не угнаться и вдвоем!
И медали на одежде
Чуть звенели за столом...
Много, очень много проблем и сторон жизни сложных, противоречивых, больных, куда нельзя не ворваться горячему, страстному слову поэта. И не зря Суворов слывет острым, не для всех удобным стихотворцем. Его стихотворение «Электричка», прозвучавшее по радио, выплеснуло вслух то, что думают едва ли не все тверичане о продовольственном обеспечении грода. А такие его стихи, как «Полковники», «Всадник», «Бог», «Бомжа», «Цыганка», «Поэзия» и др., менее известные нашим землякам, тоже передают боль и горечь, навалившиеся на сердце в наше непростое время. Михаил Суворов не боится вызвать огонь на себя, ведь и он «в ответе за Россию, за народ и за все на свете» (выражение А, Твардовского) :
...Схоронили Рубцова,
А потом Шукшина.
Перед ними церковно
Преклонилась страна.
Было бешено больно,
Боль калиной горчит.
Но доколе, доколе
Только мертвых нам чтить?!
О, мещанская косность,
Где запретам предел?
И Владимир Высоцкий
Свой куплет недопел...
Сегодня эти слова вряд ли кого и удивят, а ведь они сложились в стихи еще несколько лет назад, когда слово «гласность» не было столь употребительным, как сейчас, а произведение, в которое они были включены автором, вызывало в редакциях лишь недовольное ворчание: ну, писал бы себе о девочках-ромашках, о румяных закатах...
Нет, сегодня поэт, вступив в свое шестидесятилетие, четко видит социально-нравственные приоритеты, общечеловеческие ценности. В меру своих сил и таланта он должен служить людям с полной самоотдачей:
...Отнял взрыв у мальчишки
Света спелую гроздь.
Тьма меня окружила,
Хоть спеши — не спеши,
Но глаза заменило
Мне прозренье души.
И слепой я, и зрячий,
Но судьбу не молю.
Всею кровью горячей
Я Россию люблю...
Вот потому и отброшены недуги и бытовые неурядицы, и все мелкое, суетное, преходящее. И снова полнится песней сердце поэта.
Уже завершая эту работу, я подумал: поэтам, вроде бы, сам бог велел писать, но почему не принято писать о них и тоже стихами?! А они, право же, заслуживают этого. Вот и захотелось мне закончить эту брошюру своими стихами о Михаиле Суворове, эмоционально подытожить разговор.
Мне было жаль слепого друга.
Тьма — хоть с обеда спать ложись.
А для меня слепящим кругом
Вскипела радугою жизнь.
В полутонах, оттенках, бликах,
Подчас сливавшихся в пятно,
Все было ощутимо близко
И недоступно — как в кино.
А мой товарищ был Поэтом,
И с ним шептался краснотал.
Он слушал шорохи рассвета,
Руками поле обнимал.
Невыдуманной, звонкой сказкой
Жизнь расплескалась перед ним.
Он рисовал стихом своим.
А рисовать наощупь трудно.
Нам, зрячим, это не суметь...
Завидую слепому другу,
В стихах сумевшему прозреть!
(Журнал ВОС «Наша жизнь», 1989 г., № 1).
Пока этот материал нескоро и нелегко искал «тропинку» к читателю, поэт не сидел сложа руки и в год своего 60-летия выпустил два новых сборника стихов: «Бинокли памяти» (изд. Всероссийского общества слепых, М., 1990) и «Песни разлук» (Московский рабочий, 1990). Последнюю из них вы можете приобрести в киосках «Союзпечати» в Твери.